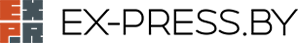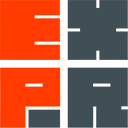Люди, продолжающие удерживать власть в своих руках, упорно не желают уразуметь одной простой вещи: бесконечное повторение слов, обозначающих некоторые понятия, приводит к тому, что эти понятия становятся привычными и теряют устрашающее значение, пишет политолог Александр Федута.
За последние несколько недель таким «затертым» словом стало слово «террор». Его склоняют в каждом новостном выпуске на телевидение, его употребляют провластные эксперты в интернете, в ютьюб-каналах, в комментариях для государственных газет. «Террор, террора, о терроре…» — все падежи уже использовали, и частота этого использования превысила разумные пределы. Страх исчез.
Нет, я не могу сказать, что его не было. Когда по телевизору показывали горящие болью и гневом глаза Николая Автуховича, кто-то, вероятно, еще мог подумать: вот человек, который готов даже на такую крайнюю меру, чтобы защитить свое право на выбор и справедливость. Но сейчас пропаганда начала записывать в террористы каких-то совершенно не ассоциирующихся с этим словом персонажей. К террору подталкивает, оказывается, блогер Антон Мотолько, плохо выбритый юноша с ямочками на щеках. В развязывании террора, как ни странно, заинтересованной объявляется мать двоих детей, собеседница министров и депутатов Светлана Тихановская, мечтающая добыть свободу для мужа, демократию для страны и подходящую сковороду для жарки котлет — для Андрея Санникова. Еще несколько дней — и мы узнаем, что задание на взрывы в песочницах и у входа в общественные туалеты планировал сидящий в «американке» жизнелюб-банкир Виктор Бабарико.
Лица, уверенные в собственной непобедимости и потому в легитимности, твердо выучили один из классических уроков: чем чудовищней ложь, тем охотней в нее верят. Но больше они ничему не учились. Например, они не знают, что смех разрушает страх. И поэтому не боятся показаться смешными. Следствием этого стало как раз обратное: они перестали быть страшными, а вот смешными, напротив, стали.
Приведу в качестве примера историю с озвученными телефонными разговорами женщины, чей голос пропах массандрой, и мужчины, вспотевшего от игры в хоккей. Еще несколько месяцев назад человек, продолжающий отдавать приказы силовикам, твердил, что все это — провокация против ближайших к нему людей. Услужливые рты, имеющие доступ к государственным медиа, охотно затвердили: провокация, провокация, провокация, подло изготовленная на западные деньги! Прошло время. Нам объявляют: да, провокация, но с участием и любительницы массандры, и однофамильца «золотого голоса России». И изготовлена она по специальному заданию и на деньги тех, кто сетовал об идеологической атаке с Запада…
Те, кто не помнит, с чего началась эта политическая «Санта-Барбара», возможно, поверят в нее — если вообще поймут, о чем идет речь. Те, кто помнит, уже четко определили свою позицию, а потому вряд ли на них можно воздействовать. Но сама по себе скорость политической вышивки равна скорости черепахи, которую давно обогнал не то что Ахиллес Быстроногий из памятной апории Зенона (нет, не того, а Элейского), но даже оппозиционная ему улитка, вдруг освоившая навыки участника «Минской лыжни». Долго, очень долго, и при этом — не слишком аккуратно. Узелки видны.
Но затертость слова «террор», как и затертость слова «провокация» обрели обратную сторону медали. К ним не просто привыкли — их перестали бояться. И это очень плохо. Потому что тем самым общественное мнение приучили к опасной вещи: если эти, кто вооружен до зубов, начиная с дубинки и пневматического пистолета и заканчивая всей прокуратурой и судебной системой, так часто употребляют эти слова, значит, они либо сами готовят нечто подобное, либо искренне боятся, что против них и террор, и провокацию будут употреблять.
Тем более, что аккомпанементом к этому хору идет еще одна мелодия: протест сдувается, мирный протест сдувается. Очень эффектная мелодия — особенно если учесть, что ведут ее и силовые басы, и валторны, и оппозиционные скрипки и флейты. И слаженность этого политического оркестра настолько впечатляет, что добавьте одно-единственное слово — и смысл немедленно изменится. Какое это слово? «Мирный», да, именно оно. Мирный протест сдувается. А какой остается? Террор?
Мне кажется, все стороны, участвующие в белорусском политическом конфликте, должны бы понять: лучше, чтобы протест остался мирным. Его переформатирование не выгодно сегодня никому. Хотя бы потому, что как в принципе выплеснувшуюся из жерла вдруг проснувшегося вулкана лаву не запихнешь назад, так начало реального террора повлечет за собой катастрофические последствия для всей страны. И наиболее катастрофичны, как ни странно, они будут как раз для тех, кто сегодня с таким смаком произносит это слово — «террор» — с телеэкранов. Потому что в глазах тех, кому они адресуют всю эту безумную ораторию, именно они будут нести всю полноту ответственности за превращение вербального (словесного) террора в террор реальный. Хотя бы потому, что обещали, что его не будет.
И здесь следует обратить внимание на то, как быстро вышли из употребления другие слова: «диалог», «народное единство», «примирение», «уважение», «гарантии». Еще совсем недавно они казались почти доминантой в настроении властных умов, и вчерашний политзэк убеждал меня в искренней готовности власти пойти на диалог. Но уже через несколько месяцев диалог свелся к бесконечному монологу на так называемом Всебелорусском народном собрании, а уж о «народном единстве» речь идет разве что в социальной рекламе, которую ни сами ее авторы, ни потенциальные реципиенты (зрители и слушатели) всерьез не воспринимают. А зачем? Как там у Шекспира в «Принце датском»? «Слова, слова, слова…» Вот, слова — они и есть слова. Не больше.
Разумеется, политическая жизнь вообще — сплошной процесс словоупотребления. Но это — лишь до тех пор, пока слово не превращается в дело, и слово «террор» угрожающе не превращается в реальность. А ведь вчера еще само это понятие в нашей синеглазой стране казалось чем-то из области фантастики.
Впрочем, от фантастики до реальности — один шаг. У Достоевского в романе о братьях Карамазовых черт спрашивает Ивана Федоровича: мол, что случится, если придать топору некоторую скорость, он оторвется от земли и улетит в безвоздушное пространство? И сам же отвечает: ну и будет топор летать вокруг земли, и люди привыкнут к топору и занесут время его восхода и время захода в календарь.
Чертовы шуточки можно, конечно, трактовать исключительно как предвидение появления искусственного спутника земли. На самом же деле Федор Михайлович, создавший своим воображением и Ивана Федоровича, и самого черта, имел в виду совсем другое. Топор для Достоевского — как раз символ террора (к топору звал Русь Николай Чернышевский). Представьте себе, что люди будут относиться к террору как к чему-то обыденному, отмечая очередную годовщину его начала как праздник. Мы ведь через это уже проходил — если отсчитывать начало государственного террора от 7 ноября 1917 года. И даже демонстрации по этому поводу проходили по всей стране (тогдашней, от Бреста до Курил). А к памятнику человеку, ставшего символом этого террора, политические поклонники до сих пор дважды в год возлагают цветы.
Один мой собеседник с удивлением сказал как-то:
— Они там у вас, в Минске, действительно думают, что из тех, кто развязывает государственный террор, не смогут превратиться в его жертв? Так объясните им, что старые большевики точно так же думали. Но вот как-то случилось, что превратилось, причем очень быстро.
Мой собеседник был историком, специализировавшимся на политической истории СССР, и историком очень начитанным. Увы, наши элиты остаются людьми мало образованными: на краповый берет, расшибая лбом кирпичи и доски, они сдать могут, но вот вспомнить, о чем говорилось в курсе истории, — вряд ли. Именно поэтому, с их точки зрения, употребляемые ими слова не несут опасности. По крайней мере, для них. А на практике, к сожалению, каждому воздается по словам и делам его. Потому что слово в политике, напомню, — тоже дело. Поступок.
Добро пожаловать в реальность!