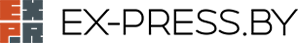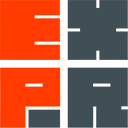Антон Беленский — волонтер штаба Бабарико — провел семь месяцев в СИЗО и получил полтора года «химии». Антона задержали 10 августа в гостинице «Беларусь» и обвиняли в организации массовых беспорядков. Пока Антон дома, очень бодр, весел и полон сил. The Village Беларусь поговорил с Беленским о том, как прошли последние семь месяцев, чему он удивился, выйдя на свободу, что сотрудники КГБ думали про марши и как быть «на хорошем счету» на Володарке.
— Антон, как настроение?
— Прекрасно, боевое. Я очень быстро реабилитировался и, знаешь, теперь наслаждаюсь жизнью. Жить стало в два раза слаще. Вкуснее. Короче, кайфую.
— Я знаю, что ты довольно легко, если можно так сказать, перенес заключение. Также есть Маша Колесникова, которая пишет «держитесь, все хорошо, у меня прекрасное настроение». Но при этом есть ребята, которые просто сходят с ума в тюрьме, которые пишут тяжелые письма, которым очень плохо. Как ты считаешь, с чем связана эта разница? Это разница условий содержания или это разница характеров, разница подходов? Почему такой большой «гэп» между кромешным адом и ребятами, которые говорят: «Да слушай, четыре месяца было нормально, через четыре уже чуть-чуть надоело».
— Ну смотри. Я был в трех тюрьмах — Жодино, КГБ и Володарка, и суммарно где-то пять камер разных повидал, пять разных видов условий. И тут, понимаешь, стакан наполовину полный или наполовину пустой. То есть вот, допустим, нельзя лежать, но сидеть-то можно. Первые дни после выборов, когда все было очень жестоко, — это, конечно, вне описания. Но если мы говорим про обычную жизнь, все больше сводится к твоему собственному отношению. Я не могу сказать в целом, одинаковые ли у всех условия. Скорей всего, они, конечно же, разные. Но, думаю, что все зависит от того, как и на что ты себя настроил. Я ко всему подходил, как к квесту. Как игра, какая-то задача, вот надо научиться жить в дыму. Представляешь, все курят — я не курю. Пятнадцать человек курят, стоит постоянный смог, я спал на третьем ярусе и приходилось вот так вот голову вниз свешивать, чтобы дышать, понимаешь? Но это было все равно прикольно. Если ты настраиваешь себя на то, чтобы пройти путь, победить, то все легче.
Если же ты просто сравниваешь с тем, как было на свободе — да, разница огромная. Ты без движения, ешь всякую фигню, свежего воздуха нет, начинаешь потихоньку засыхать. Но если ты ставишь себе какие-то маленькие цели, маленькие победы и пытаешься их достигнуть, то тебе легче. Я вот подтягивался на всем, чем можно, — начинал с семи раз, а закончил тридцатью. То есть, каждый следующий раз это была такая очень маленькая победа, но она победа все-таки. Ты стараешься много читать, тоже ставишь себе цели: прочитать это, прочитать это, здесь разобраться надо в чем-то, тут еще понять, в чем разница. И в какой-то момент,
месяцев через пять, ты особо уже не чувствуешь, что ты в тюрьме, потому что здесь, на воле, ты работаешь, чтобы получать доход, чтобы строить свою карьеру, чтобы это как-то тратить, да? Там все то же самое, только там тебе платят не деньгами, там ты ставишь себе задачи не засохнуть, продолжать эволюционировать и развиваться. И все это твоя работа.
Вот ты с утра встал, надо открыть книжку и начать ее читать, даже если она неинтересная, просто потому, что ты к этому относишься, как к работе. И работа в тюрьме идет над собой — а у тебя больше ничего нет. У тебя есть только твое тело и твоя башка.
— Можно ли сказать, что в какой-то степени это интересно? Или все-таки это слишком позитивное и неприемлемое слово?
— Слово, конечно, слишком хорошее. Но я бы сказал, что если бы это закончилось через два месяца, это было бы очень интересно. Потому что, в принципе, за два месяца проходит полная адаптация. Ты привыкаешь к режиму, привыкаешь к еде, к графику всех сокамерников. Вся камера — это маленькое помещение, а уборная и кухня — это просто, скажем так, дизайнерские разделенные зоны (смеется). Так вот, если сокамерник будет ходить по камере, ты никак с ним не пересечешься. Потому что у него настолько уже появляется этот ген тюрьмы, что он идеально чувствует, когда именно его время пройти в туалет. То есть ты вообще его не замечаешь. Если ни с кем не разговаривать, в какое-то время ты будто один. Несмотря на то, что вас пятнадцать человек в три яруса, и невозможно в какую-то точку посмотреть, чтобы не увидеть чью-то пятку или руку.
— А ты не думал сам закурить? Снимать стресс ведь нужно было. Есть какие-то способы снятия стресса в тюрьме, когда становится совсем тяжело?
— Я курил десять лет и с трудом бросил. Я думал, если закурю в тюрьме, то это, конечно, вообще потеря. Хотя когда кому-то передавали «Капитан Блэк», я думал: «Я не бросал, я курю» (смеется).
Мне не становилось печально, просто ты ждешь, что завтра это все закончится, и каждый день просыпаешься с мыслью — ну сегодня точно меня заберут. Иногда ты понимаешь, что, наверное, все-таки придется долго сидеть в тюрьме, долго. Поэтому иногда я приседал. 900 раз был рекорд! Потому что не можешь отключиться, в голове мысль крутится, крутится, крутится без конца.
— Вижу у тебя характерный браслетик на руке…
— Это мне подарили соседи. У меня байка «Маяк» и браслетик «Маяк». Коробку подписали «Гордимся соседом».
— Круто. А что, ты проголосовал на платформе «Голос» за переговоры?
— Да, я проголосовал и в Инстаграме в сториз запостил. Хожу, всем устанавливаю на телефон VPN и показываю, как пользоваться, голосовать, проверять, как трекать.
— То есть, пенитенциарная система не изменила твои взгляды на жизнь?
— А как она должна была изменить?
— Но рассчитывается, что сейчас всех напугают, посадят, все выйдут и больше ничего не будут делать. Такая у них надежда.
— Это, наоборот, укрепляет тебя в твоих взглядах.
И скорее всего, единственное, что меняется {в тюрьме. — ExP}, — это осознание того, как именно мы будем бороться. То есть не взгляды меняются, а меняются взгляды на тип борьбы.
Теперь так внаглую, допустим, разговаривать по телефону уже не будешь. И выходя на улицу, ты конечно же подумаешь, и какую одежду надеть, и что надо с собой кнопочный телефон взять, и так далее.
— Сделай краткий отзыв тюремного туриста: тебе какая тюрьма «понравилась больше» — Жодино, КГБ или Володарского?
— Если вкратце, то лучше всего, наверное, Володарка. Потому что это тюрьма-легенда. Жодино — я там пробыл очень мало и ввиду того, что сидел со всеми политическими, не было ощущения тюрьмы, было просто помещение тюрьмы. Американка, СИЗО КГБ, — это как гимназия, скажем так. Все исполняется точно так, как прописано в распорядке. Ни с кем не договориться, вообще особо ни с кем не говоришь, тебя водят по одной и той же инструкции, все всегда одинаково происходит. Володарского — это уже тюрьма в каком-то классическом представлении. Это уже договоренности, там уже все зависит от тебя, день на день не похож, несмотря на то, что все это один большой День сурка, но там ты можешь больше. Свобода, она неофициальная, но она там существует и по-своему выражается.
— О чем можно договориться на Володарского, например?
— Можно не по распорядку делать некоторые вещи. Допустим, можно полежать днем, если камера на хорошем счету. По сути, лежать не запрещено, нигде не написано, что это запрещено. Но почему-то конвой и стражники считают, что нельзя. Но если камера на хорошем счету, если ты прилично с ними разговариваешь, правильно поставив беседу, тогда они тебя услышат, не будут докапываться. Хотя знаешь, еще интересный момент: все, кто посидели, и все, кто вышли, говорили: «Наша камера была на отличном счету». Получается, либо у всех все одинаково, только сами заключенные считают, что у них по-особенному, либо у всех политических все нормально. Они сообразительные ребята и понимают, как себя надо вести.
— Тебя закрыли, когда еще не было маршей, не случилось много событий. Как ты представлял себе происходящее, пока сидел? Как выглядела эта история в твоей голове и насколько она совпала потом с реальностью?
— Я вышел, когда уже абсолютно все флаги поснимали, и до сих пор если едешь, видно, что там был какой-то бело-красно-белый флаг и он либо замазан, либо оторван. Я ожидал увидеть пепелище по настроению, а на второй день пошел встретиться с приятелем в бар — и понял, что люди ходят в бары. Для меня это был разрыв шаблона. А потом мы немного поддали и поняли, что в этом баре все отсидели на сутках. И они все разговаривали про ИВС, а я уже дал им лекцию про тюрьму, кто здесь папа (смеется). И вот такие качели продолжаются до сих пор. То есть,
ты приходишь в ресторан и думаешь: неужели люди с этим смирились? А потом смотришь: приходит уведомление от телеграм-канала, все сразу — раз, в телефон, и прерывается ужин во всем ресторане.
По каким-то такие мелочам ты замечаешь, что все иначе. Как говорят в тюрьме: «мужику не чуждо хотеть на волю». То же самое здесь, я прекрасно понимаю, что людям не чуждо хотеть жить. Но в то же время заметно, что все очень мобилизованы. Обсуждение новостей происходит не так, как раньше. Раньше ты спрашивал: «Читал эту новость?». Тебе отвечали: «Блин, нет, не читал, что там написано?». А сейчас все читают новость сразу одновременно, у всех рука на пульсе.
А по поводу того, насколько до меня доходили новости… Когда меня допрашивали в КГБ, мимо проходили марши. Было лето, жарко, открыты окна, и я слышал, какое количество людей скандирует.
Я видел по лицам сотрудников КГБ, что ситуация очень интересная. Иногда вопрос с их стороны на допросе звучал очень уверенно, а иногда этот вопрос был как будто риторический. И все зависело от настроения снаружи.
Если это были будние дни, вроде все обычно. Если это были выходные, то с тобой разговаривали по-другому. Такое ощущение, что сомневались абсолютно все. Несмотря на то, что они делали эту работу прямо в эпицентре этих маршей, кем бы они ни были, они тоже сомневались, волновались. Настроение у них менялось, и менялась повестка по вопросам. Чувствовалось — или он ждет, когда это все уже закончится, или реально решает задачу.
— Они как-то комментировали эти марши? Что-то говорили, шутили, может быть?
— Нет, никаких разговоров, ничего лишнего. Все, что меня спрашивали, касалось так или иначе предвыборной кампании либо нюансов моего задержания.
— Что тебя удивило больше всего, когда ты вышел?
— Если быть честным, не знаю, насколько это поможет общему делу, но меня удивило, что несмотря на то, что я во всей этой движухе, можно сказать, с самого начала, я увидел некоторый рассинхрон. Но это было до голосования про переговоры. Но опять же, стоит отдать всем должное: сохранять ритм, темп, вектор спустя такое количество изменений и потрясений — это отлично. Просто топ. Я, опять же, был удивлен, когда увидел, что движуха — она не на инерции. Я очень боялся выйти и увидеть, что все гаснет. А на самом деле нет, механизм трансформировался, он крутится, и все происходит немного по-другому. И это не инерция — это продолжение.
А вообще я реально удивляюсь каждый день. Каждый день я что-то читаю, что-то смотрю, какая-то информация доходит, картинка начинает складываться, и я по-прежнему удивляюсь тому, что происходит. Допустим, голосование, начатое «Голосом» и 500.000 человек за первый день — я был удивлен. Это супер! Я удивлен тому, как теперь идет борьба. Удивлен, какая стала Тихановская, как она выросла.
— Когда тебя задержали, не было еще ни Координационного совета, ни штаба Тихановской, ни НАУ. Что ты подумал, когда узнал, что теперь есть столько политических субъектов?
— Несмотря на то, что демократии в Беларуси совсем чуть-чуть, шесть месяцев, у нас уже есть выбор. И это тоже интересно. Можно на все смотреть по-разному. Можно сказать, что они не могут договориться. А можно сказать, что у нас есть выбор. Есть опытные, есть начинающие, у каждого есть представление о том, что они могут сделать, плюс у каждого, естественно, есть своя команда, каждый может оценить, в чем он силен. Поэтому это нормально. Все зависит от того, с какой стороны ты смотришь и что ты хочешь увидеть. Хочешь быть Азаренком — увидишь, конечно, проституток и наркоманов.
— С тобой Воскресенский как-то связывался?
— Не связывался. Вроде он пытался связываться с моим адвокатом. На самом деле, я был готов с ним встретиться, потому что из тюрьмы было не совсем понятно, кто он, что он и на каких условиях происходит освобождение, что под его программой подразумевается и так далее. Поэтому я хотел, конечно же, как минимум, услышать, какие есть варианты, то есть, находясь там, все возможные варианты нужно, как минимум, рассмотреть. Но он так и не пришел.
— Что было для тебя самым сложным за это время в СИЗО?
— Я физически хорошо подготовлен, абсолютно всеядный и вообще не брезгливый. Сложнее всего было понимание того, что снаружи меня нет. Я понимал, что мое предприятие выдержит без проблем, потому что есть опытные сотрудники, которые все сделают без ошибок, но стратегическое решение принять некому и ответственность взять некому. То же самое мои близкие: их реальность изменилась, им нужно покупать передачи, возить, потом нужно как-то переживать, они привязаны как будто к больному человеку. Я часто писал в письмах, что «вам намного сложнее, чем мне». Потому что конвой и стражники несут уголовную ответственность за то, что со мной может случиться. Поэтому со мной ничего не случится. Я чуть-чуть постарею и похудею, это максимум. А вот с вами может произойти куда больше. Поэтому понимать, осознавать, что ты, как мужчина, не можешь защитить свою семью, не можешь взять ответственность за какие-то решения — вот это было сложнее всего. Но у меня много друзей, они включились, разобрали все мои функции. Кто-то звонил ребятам на работу, кто-то регулярно звонил маме, кто-то регулярно звонил Маше. Все в итоге подружились. Я вышел из зала суда и понял, что все между собой уже друзья, что они сто раз посидели друг у друга в гостях.
— Ты упомянул про уголовную ответственность, которую несут органы, но опыт последних месяцев показывает, что они ее не несут, уголовную ответственность несут те, с кем что-то сделали…
— Если мы говорим про ОМОН, то да. Но если мы говорим про стражника в тюрьме, то нет, ничего с тобой не будет. Вот почему люди голодают, вскрываются и так далее? Это давление на тюрьму. Потому что тюрьма несет за тебя ответственность, единственная возможность навредить тюрьме — это навредить себе. Но я не имею ввиду голодовки по политическим делам. Политические голодовки — это, конечно же, протест.
— Как ты думаешь, что тебя ждет на "химии"? Как ты себе представляешь "химию"?
— В целом, это будет очередной квест. Блин, я надеюсь, что если просто придется работать, что хотя бы пусть работа будет полезная, какая-то адекватная. Подметать улицы? Ну давайте подметать. Пилорама? Вообще отлично. Самое главное, чтобы это было что-то чуть-чуть полезное.
— Есть разные виды поведений адвокатов политзеков и их родственников. Одни адвокаты и их родственники стараются максимально озвучивать всю информацию и привлекать внимание: что происходит, что делает, в чем несправедливость и нарушения. А есть адвокаты и родственники, которые, наоборот, молчат, им кажется, что если не трогать лишнего, не говорить, даже, может быть, не признавать политзаключенными, то будет лучше. Что ты думаешь по этому поводу?
— В тюрьме есть такая фраза: «Не ищи в их действиях логики, ее нет». И либо эта логика какая-то непостижимая уму, либо ее реально нет, что скорее всего. Мы бы это все заметили. Я хотел быть уверенным в том, что моих близких, что бы ни случилось, будут поддерживать. Наверное, в этом плане быть признанным политзаключенным удобнее, потому что ты чаще попадаешь во всевозможные программы и инициативы, и наверное, за твоими близкими присмотрят. Или волонтеры присылали иногда еду сами. Я всегда им отвечал: «Пожалуйста, не присылайте, все в порядке, у меня все есть». А некоторые политзаключенные именно этой едой питались, потому что у них другой не было. Но если мы говорим конкретно про статью, заключение и суд, то кроме как передачи и поддержки близких у политзеков… ну что еще? Ну статус немного другой, да. Но он тебе не ухудшает твою ситуацию и не улучшает. На суде ты все равно окажешься, все равно все пройдет точно так же. Если ты был задержан, то, скорее всего, ты попал в политическое дело, неважно, обозначили тебя политзаключенным или нет. Если ты попал в политическое дело, значит, у тебя есть следственная группа, а не следователь, значит, у тебя есть руководитель группы, который уже плюс-минус понимает, кто с каким результатом выйдет.
— А ты смотрел сайт politzek.me? У тебя там много друзей.
— Да, круто, очень круто. Я теперь понимаю, как работали эти открытки, например. То есть оно бывало — нету-нету, потом — бум, очень много открыток.
— Мне было интересно, а почему ты жил в гостинице? Я понимаю смысл, но они все равно, скорее всего найдут, если надо, как, собственно, это и случилось. (Антона задержали 10 августа в номере гостиницы «Беларусь», а по ТВ сказали, что он оттуда «координировал акции и руководил действиями соратников» — The Village Беларусь)
— Да, смысла было немного (смеется). На самом деле, я допустил ошибку — включил телефон. Я вообще не планировал в эту гостиницу ехать. Так получилось, что мои друзья снимали номер, потом он стал не нужен, а был уже оплачен. Типа хочешь — заезжай. Я знаешь, о чем много думал? Я думал: «Блин, они на меня смотрят как на реального террориста. Я в центре Минска, в гостинице, на 17-м этаже, был в штабе». Но я мог быть не в гостинице, а в «Галерее» напротив, на фуд-корте — было бы то же самое: а что ты там делал наверху на фуд-корте?.
— Штаб Бабарико, в котором ты был летом, неоднократно говорил, что собирается создавать партию. Что ты думаешь про это?
— Партия — это круто! Все должно работать так, как будто никакого беззакония не существует. Если мы пойдем бороться на улицу с автоматами, то мы не победим. Мы должны выиграть в правовом поле — это единственный вариант, при котором все нас признают, и нужно продолжать так же бороться. Это была изначальная стратегия, она такой и остается.
Нужно продолжать действовать в правовом поле, и система сама этого не выдерживает. Она ломается, им приходится выделывать какие-то очень странные штуки и это будет взрывать людям голову. Почему вышло так много людей? Потому что увидели максимальное беззаконие — тот беспредел, который творила милиция после выборов. Поэтому нужно дальше двигаться в правовом поле: опять будет беззаконие, это будет видеть много людей и они будут реагировать.
— У всех беларусов меняется настроение. Сначала был подъем, консолидация, надежда. Потом наступил период депрессии. Сейчас это скорее какой-то микс, мы сами уже не понимаем, на какой мы стадии. На какой стадии сейчас ты?
— Говорить, что я испытываю отчаяние — да нет, конечно. Я понимал, что буду сидеть в тюрьме. После того, как записался в инициативную группу и когда приехал в штаб и понял, что я по полной программе на все подписался. Точно так же я понимал, что изменения произойдут не за месяц. Это системный сдвиг, это зародыш демократии, зародыш возможностей, демонстрации того, как люди рискуют и что из этого выходит. Испытывать депрессию мне не удалось, потому что я не видел того, что видели остальные. Но сейчас я никакой депрессии точно не испытываю, я чувствую, что близится лето, будет куда легче, больше возможностей, не так будет страшно и, хочешь-не хочешь, они устают сильнее, в два раза сильнее.
Нас куда больше, нам можно ошибаться, у нас много времени, 9 миллионов человек отсюда не уедут. Поэтому время есть, мы будем пробовать. Это самая положительная новость, которая может быть, когда ты видишь, что люди продолжают пробовать.
Текст: Евгения Сугак.
Фото: Павел Кричко.
The Village Беларусь
Добро пожаловать в реальность!